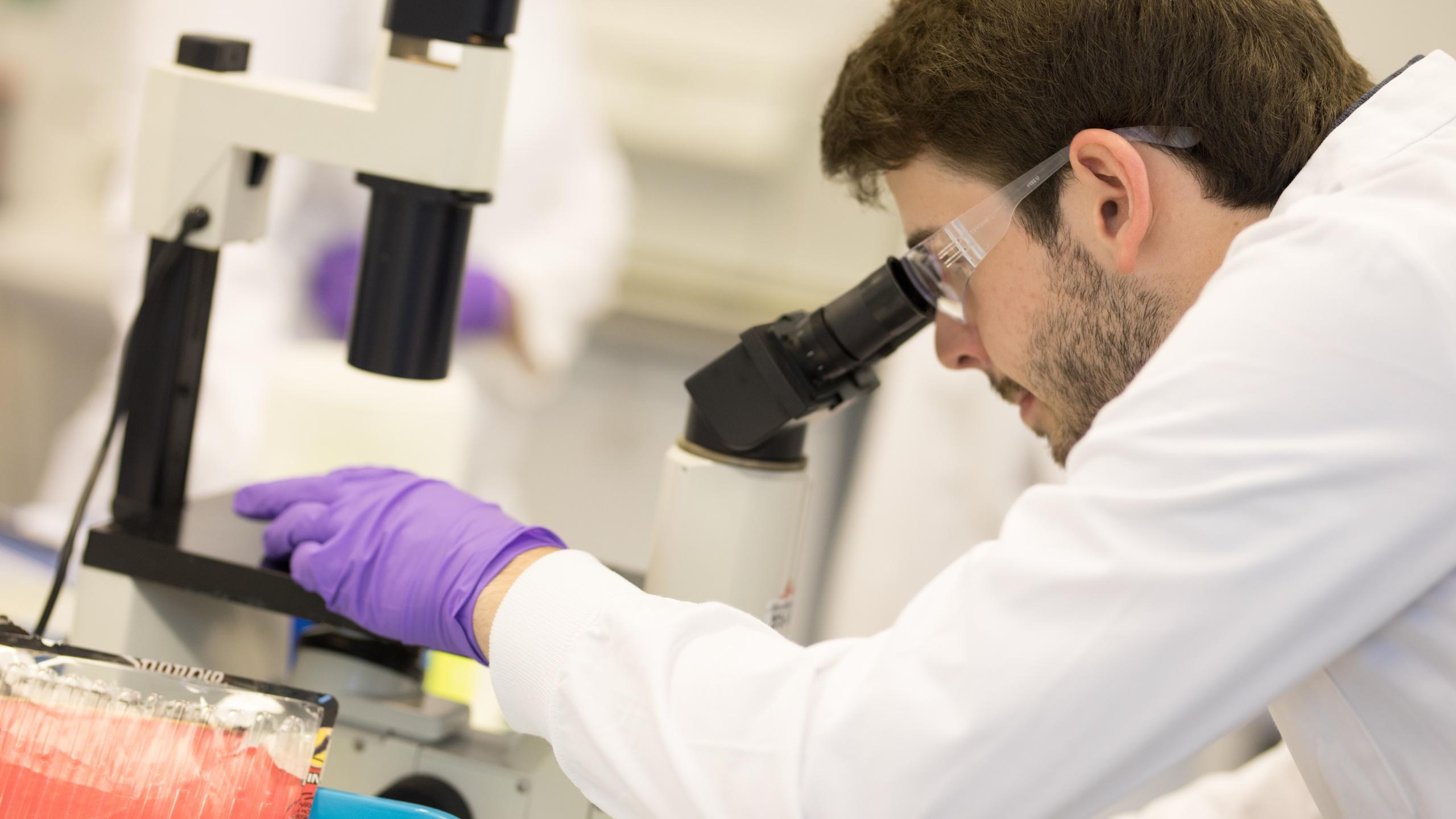Нобелевскую премию по физиологии и медицине могли бы, конечно, дать и за что-то другое, но дали за открытие механизма адаптации клеток к концентрации кислорода.
Не очень честно, если подумать: нобелевки «за кислород» — за понимание того, как мы им дышим и что происходит, когда его маловато — уже дали Отто Варбургу (1931) и Корнею Хеймансу (1938). А с другой стороны, это захватывающая научная история, а нам, научным журналистам, только такие и подавай: не все же время писать про скучное.
Историю надо бы начать с гормона с поэтичным названием эритропоэтин. Про этот гормон физиологи знают уже больше ста лет. Эритропоэтин синтезируется клетками почек при недостатке кислорода и включает усиленное производство эритроцитов.
Такое описание процесса казалось исчерпывающим вплоть до второй половины ХХ века, а потом наука физиология незаметно изменилась: никакой ответ на вопрос «Как?» уже не котировался, если в нем не упоминалось о генах и ДНК. И вот в 1980-х Грег Семенца задумался о том, как бы и в эту историю вплести упоминание о генах. Эритропоэтин — белок, а значит, у него есть ген. Очевидно, когда кислорода становится совсем мало, что-то этот ген включает, — так, видимо, рассудил Семенца и принялся искать в окрестностях гена кусочки ДНК, проявляющее свое действие в присутствии или отсутствии кислорода.
Тут его ждал первый сюрприз: как оказалось, этот регуляторный механизм работал не только с эритропоэтиновым геном. И далеко не только в клетках почек: самые разные типы клеток (человека и мышей) одинаковым образом откликались на гипоксию, причем в них включались целые букеты самых разных генов. Тем временем в Британии этой историей параллельно занимался другой нобелиат, Питер Ратклифф, и видел ровно то же самое.
Семенца оказался чуть упорнее и через несколько лет нашел то самое нечто, которое умеет включать разные гены в разных клетках в отсутствие кислорода. Он назвал этот белок «фактором, индуцируемым гипоксией» (HIF). Как эта штука реагировала на кислород? На первый взгляд, безумно просто: в присутствии кислорода HIF был нестабилен, а как только дышать становилось нечем, белок начинал накапливаться и включал требуемые букеты генов.
Но такими словами научный журналист может объясняться с его доверчивыми читателями, а ученым хотелось большего: с чего это он вдруг был нестабилен? Чем ему так вредит кислород?
Эту неуемную жажду познания помог утолить третий герой нашей истории, Уильям Кейлин, занимавшийся, казалось бы, совершенно посторонней проблемой. Есть такая «болезнь Гиппеля-Линдау», она же цереброретинальный ангиоматоз, при котором у больного образуются опухоли в разных частях тела, и очень часто на сетчатке глаза. Как раз опухолями и интересовался Уильям Кейлин, — он был врачом-онкологом. Самое же интересное в синдроме ГЛ было то, что он наследственный, а значит, у Кейлина была возможность выловить ген, из-за которого все эти бедняги болели раком.
Ген вскоре нашелся: в семьях, где встречался синдром ГЛ, действительно передавалась сломанная копия одного гена. И вот тут наблюдательный Кейлин заметил, что опухолевые клетки со сломанным геном ГЛ (его научное название VHL) вели себя так, как будто мучились от сильнейшей гипоксии. Очевидно, место гена ГЛ в этой истории надо было искать, как выражаются молекулярные генетики, «выше по течению» от HIF: после того, как накопился HIF, вроде бы все ясно, а вот причинно-следственная связь между кислородом и HIF мутновата, и там вполне могло найтись место еще одной ступеньке рассуждений.
Дальше началась добрая научная гонка: ее, конечно, сильно подстегнул тот факт, что в сюжете появился рак, а как раз в это время на исследования рака в США выделялись колоссальные деньги. И финишировали исследователи достойно: в 2001 года в одном номере Science были подряд опубликованы статьи группы Кейлина и группы Ратклиффа, где и излагались все подробности: что там такое происходит в клетках от кислорода.
Происходит кое-что с белком HIF: на две из его аминокислот навешиваются гидроксильные группы. Эта конфигурация — два торчащих из белковой молекулы гидроксипролила — выглядит довольно нетипично, и ее сразу же узнает ГЛ. Этот самый ГЛ, как оказалось — ничто иное как компонент клеточной мусороуборочной машины, которая отправляет на утилизацию ненужные белки. Именно эта участь и уготована HIF: вот он был, и вот его нет.
А что будет, если кислорода не хватает — или если один из винтиков этой машины вдруг сломается, как у больных синдромом Гиппеля-Линдау? Тогда HIF никуда не девается. Здоровый и бодрый, он включает один за другим все гены, ответственные за правильную реакцию клетки на гипоксию. Если при этом никакой гипоксии не было и в помине, а клетка оказалась опухолевой — все становится совсем неприятно.
Но есть и хорошие новости. Эта химическая машинка с навешиванием гидроксилов на пролин, последующим их узнаванием и отправкой всей этой штуковины в мусорный бак — идеальная по своей простоте мишень для всяких лекарств. Оставалось только эти лекарства изобрести, и победа над раком нам гарантирована.
Примерно этим ученые и занимались последующие 18 лет. Были особенно яркие моменты: в 2016 году лекарство компании Threshold Pharmaceuticals с треском провалило клинические испытания, и компания уволила 2/3 своих сотрудников — всех, вовлеченных в разработку этого бесплодного направления. Нечто похожее произошло и с другими героями — Cerulean. Восемнадцать лет и одну нобелевскую премию спустя после открытия надежды использовать его в лечении рака остаются призрачными.
Зато недавно одобрено (в Китае) первое лекарство, нацеленное на HIF и эффективное при почечной недостаточности. Подобные препараты выпускают сразу три крупные фармацевтические компании. Так история, описав плавный круг над проблемами большой онкологии, вернулась к истокам — синтезу эритропоэтина в почках. Впрочем, это путешествие гораздо осмысленнее, чем может показаться из нашего упрощенного пересказа. Эта история про то, как за три десятилетия от ситуации «ничего не понятно» ученые пришли к «понятно даже слишком много, потому что очень сложно». И если Нобелевский комитет решил отметить этот научный сюжет премией, то уж наверное удастся с его помощью и кого-нибудь да вылечить. Нобелевские истории вообще нередко приносят пользу человечеству — не говоря уж о том, что некоторые из них довольно любопытны.
Автор: Алексей Алексенко