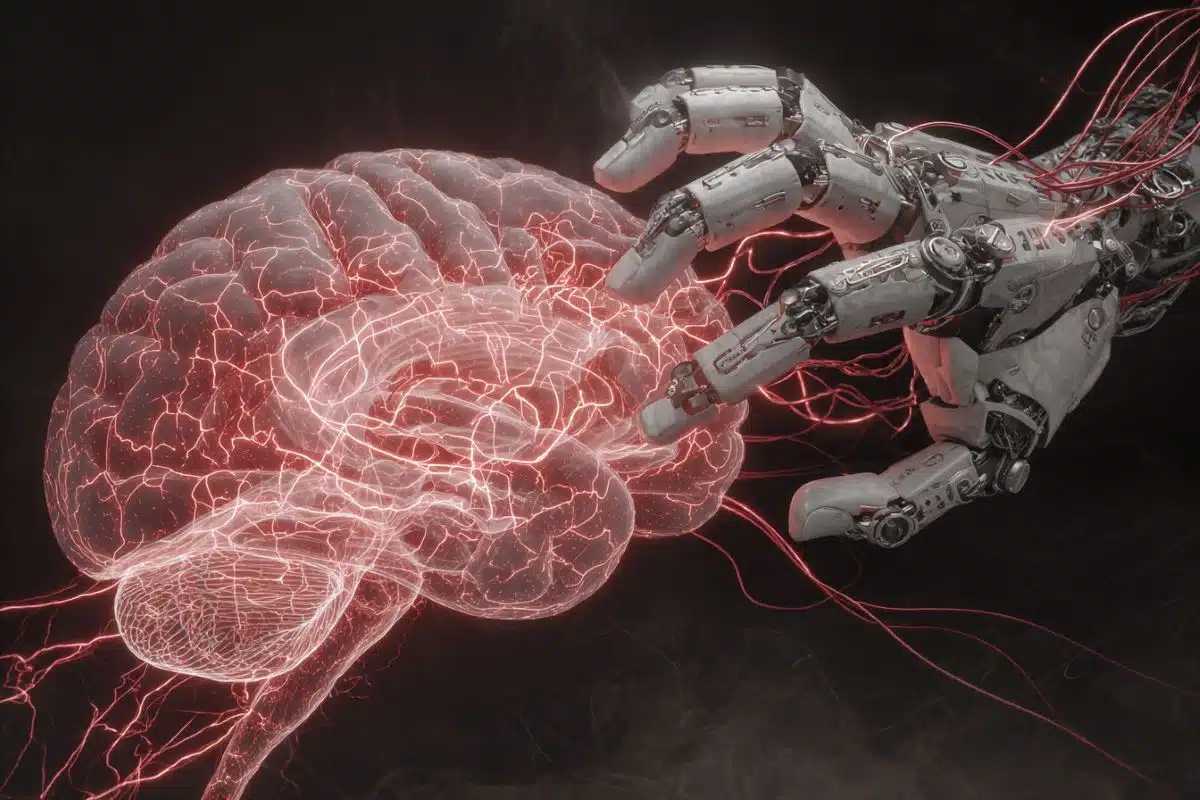Спустя несколько лет после утраты руки соответствующие ей зоны в коре человеческого мозга работают так же, как если бы рука была на месте.
Если проследить за активностью мозга, когда мы что-то делаем – шевелим рукой или ногой, киваем головой, что-то жуём – то можно увидеть, что каждой части тела соответствуют определённые зоны в коре полушарий. Правда, тут нужно различать соматосенсорную кору, которая воспринимает ощущения от рук, ног и пр. и оценивает положение части тела относительно остального тела, и моторную кору, от которой идут сигналы к мышцам. То есть ощущениям будет соответствовать карта в соматосенсорной коре, движениям – карта в моторной коре, или, если их объединить, сенсомоторная карта тела.
Что произойдёт, если индивидуум утратит конечность? Нейроны соответствующих участков коры окажутся не при делах. До сих пор было принято считать, что они подключатся к соседям и начнут работать с другими частями тела. В то же время многие люди даже спустя годы после ампутации говорили, что они могут чувствовать тепло или холод в несуществующей конечности и шевелить несуществующими пальцами, а это значит, что нейроны, закреплённые за утраченной рукой или ногой, должны сохранить свою специализацию. И вот сейчас в Nature Neuroscience вышла статья сотрудников Университетского колледжа Лондона, которые несколько лет изучали активность мозга у трёх людей с ампутированными руками от кисти до плеча. Мозговую активность оценивали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), и первый раз работу «ручных» зон наблюдали, когда руки были ещё на месте. Участников эксперимента должны были проделать разные движения руками и пальцами, а также губами, чья зона в коре была как раз с зоной рук.
После операции они регулярно в течение пяти лет появлялись в лаборатории, где их просили представить, что они что-то делают несуществующими конечностями – например, барабанят пальцами. Оказалось, что у них по-прежнему работают те же, что и раньше, зоны коры, соответствующие ампутированной руке, и переключения нейронов на близлежащую зону губ не происходило. Карта тела – во всяком случае, её «ручная» часть – оставалась прежней. Это важно не только в смысле фундаментального понимания связей между мозгом и остальным телом, но и для практических целей, то есть, например, для разработки протезов и нейрокомпьютерных интерфейсов, которые позволяли бы сделать протез максимально похожим на настоящую конечность.
Вообще говоря, мозг достаточно пластичен и есть много примеров, когда участки с чёткими и давно определёнными функциями начинают заниматься другими вещами. Но здесь, видимо, нужно учитывать, о каком участке идёт речь и по какой причине ему вдруг пришлось переключиться на новую задачу. Очевидно, в случае сенсомоторных функций взрослого мозга пластичность оказывается сильно ограничена.
В связи мозговыми картами тела можно вспомнить сравнительно недавнюю работу о зонах двигательной коры: два года назад двигательную карту переделали со значительными уточнениями, дополнив её особыми зонами, которые не несут какой-либо специализации, но отвечают за общую координацию движений с учётом данных из других, недвигательных участков мозга.
Автор: Кирилл Стасевич